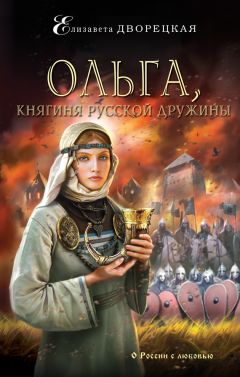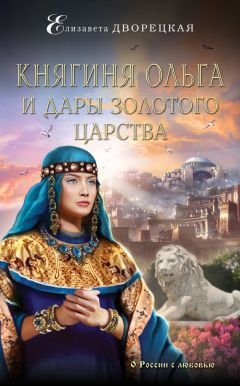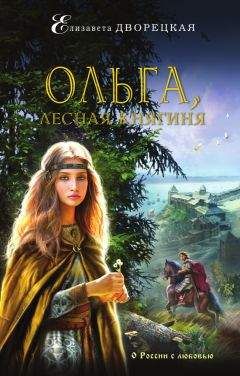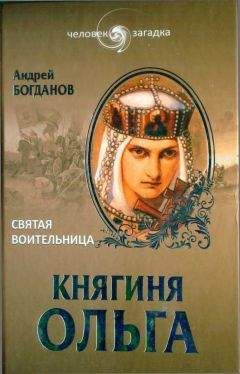"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
Кто-то вдруг сел на траву рядом с ней – Яра вспыхнула, сердце забилось часто-часто. Краем глаза она видела ту самую сорочку, которую высматривала, но старалась не подать виду.
– Устала? – спросил обладатель сорочки.
– Нет, – она слегка повернула голову. Какая же девка сознается в усталости – за хворую и немощную сочтут. – Так просто… посидеть хочу.
– Я с тобой посижу, – парень тоже повернул к ней голову, взгляд невольно скользнул с ее лица на бурно дышащую грудь. – Можно?
– Здесь трава не моя, не купленная.
Все шло как нельзя лучше. Даляте хватало опыта это понять, вот только девка была не та.
Весь день Далята ждал, пока от него потребуют совершить что-нибудь этакое. Лучше всего – взять Жировита и зашвырнуть в реку. Но ничего такого ему не предлагали – ходи по кругу, принимай веночки, кланяйся и улыбайся. А затевать ссору и драку на игрищах у реки – это даже не чащобой надо быть, а каким-то шишком подкоряжным. Так осрамить род деревский он не мог и томился, ожидая, к чему же все эти игры ведут. Не просто же поплясать на лужку Благожит созывал отроков из всех колен Дулебовых!
– Красивая на тебе сорочка, – дева скосила глаза на его рукав. – Ты рода бужанского?
– Нет, – Далята сперва удивился. – Дерева мы.
– А может, матушка твоя из бужан? Я по узору вижу, – пояснила дева в ответ на его недоумевающий взгляд.
Глядя на нее, Далята не сразу сообразил, что ответить. Эту деву он приметил в толпе еще по пути на луг от святилища. Не так чтобы очень красивая – с княжной на белом коне не сравнить, – но что-то в ней такое было, что заменяло красоту и делало созерцание ее очень приятным занятием. А если приглядеться, так и чего надо лучше, чем эти большие глаза под темными бровями, яркий румянец, широкая белозубая улыбка… Даже широкий короткий нос уже кажется милым, как будто сам по себе тоже улыбается. Хочется взять ее за руку, прижаться губами к теплой щеке… Пялясь на нее, Далята не раз забывал про княжну, которую без устали обхаживал Жировит.
– Матушка моя… тоже деревского рода, – наконец он опомнился. – А сорочку… в Плеснеске одна… в святилище их, на Божьей горе, мудрая дева одна поднесла нам на счастье… чтобы, значит, долю свою сыскать…
Неловко было говорить об этом: еще подумает, что он явился свататься к одной девке, одетый в любовный подарок от другой! Что бы там ни говорил Берест, как бы ни отнекивался, товарищи знали, как у него обстоят дела. Но не рассказывать же, что он, Далята, своей хорошей рубашки не имеет – а тоже, княжеской дочери в пару мостится!
– Истинно мудрая была дева, – обронила румяная. – Сильной долей наделила. Ты ведь знаешь: не видать удачи тому удальцу, кого мудрая жена не благословила. И в сватовстве удачи не будет, коли мать сыну чашу на счастье не поднесет.
Далята отвернулся. Мать ему ничего такого не подносила, и из дому он ушел, порвав с уцелевшими родными.
И не дурак ли он, что желает отличий в чужой земле, не имея прочного корня в своей?
Но разве он виноват? Далята стиснул зубы и сердито выдохнул. Он ли виноват, что отец пал в сражении с русами (чтоб Марена в ступе прокатила Свенельдича-младшего!), а Семята, старший брат и новый глава рода, предпочел покориться русам и принести клятвы покорности? Дань обещал давать, по две куницы с дыма, чтоб его… Обычай требовал от младшего брата подчиниться и принять волю рода. Далята не смог.
Мать не проклинала его, но и не благословляла. И сейчас Далята ясно увидел, как глупы были их надежды. Русы подрубили корень деревского рода, и они, две сотни отломанных веток, нового дерева из себя не вырастят. Завянут да и сгниют – вот и вся счастье-доля.
Румяная водила пальцами по своему венку на коленях, будто никогда такого дива не видела.
– Это что за цветочки? – Далята показал на венок. – Желтенькие?
– «Лютая трава». А еще ее зовут Перунов цвет. Она раны заживляет, боль утишает, от нарывов, опухолей помогает, бородавки выводит, чесотку прогоняет. И еще…
Дева начала привычно, как будто много раз об этом рассказывала, потом замолчала.
– Только им знающие люди лечить должны, – добавила потом. – И собирать тоже. Неумеючи отравиться можно.
– Ты про всякую травку столько знаешь?
– Про всякую.
Далята еще помолчал.
– Не благословляла меня мать, – признался он. – Я и не простился с нею толком – не до того было.
– Как же так? – румяная удивленно подняла брови.
– Она дома осталась, с Семятой – это старший наш брат, и с Гречином – это самый младший, он еще отроча…
– Почему же Гречин? Что за имя такое? У вас есть греки в роду?
Она даже засмеялась: вот нелепость сама же выдумала! Чаще у людей медведь в прадедах бывает или вила в прабабках, чем гречин или хазарин.
– Это прозвище. Десять лет назад мой отец в греки войной ходил, а как вернулся – дитя народилось, вот его и прозвали так.
– В греки войной? – румяная наморщила широкий, однако низкий лоб. – А, так ты – деревского воеводы сын?
– Да, Величар был мой отец, последний воевода деревский. Я с ним был, когда его убили… – тихо добавил Далята.
Так дико было вспоминать ту зимнюю ночь и кровь на снегу, когда сейчас перед глазами Даляты по зеленому лугу плавали «серые утицы» – красные девицы, задорно и плавно взмахивали в пляске белыми рукавами, а со всех сторон звучали рожки, смыки, бубны.
доносилось до них.
– А кто его убил? – румяная теперь сидела, полностью развернувшись к Даляте. Серо-голубые глаза ее стали тревожными.
– Русы… Свенельдич-младший.
– А кто это? Как это было?
– Когда Ольга под Искоростень пришла со всей ратью.
– А кто это?
Далята опешил. Она ничего не знала! Даже не слышала о том, что было главной бедой, борьбой и смыслом его жизни в последний год. Не ведала, кто такая Ольга, Ингорева вдова.
– Ольга – это княгиня киевская, мать Святослава. Про Святослава ты хоть знаешь? Он ведь княжича вашего убил, Благожитова сына. Про это ты хоть слыхала?
– Да, – дева отвела глаза. – Про это… слыхала.
– Где же ты была, когда сюда русы приходили? Они же до Хотимирля вашего всего с два поприща не дошли!
– Я в Не… в лесу была.
– Вас прятали там?
– Нет, я там живу. Расскажи о русах. Что это за народ? Зачем они ходят всех воевать – вас, нас?
– Порода такая. Хотят весь белый свет подчинить и со всех родов дань брать.
– Как обры?
– Навроде того.
Но Далята не мог молчать, имея возможность поведать о своих схватках с племенем, не менее опасным и грозным, чем обры из дедовских преданий. Он начал рассказывать с прошлого лета – когда умер воевода Свенельд и князь Володислав отказался платить Киеву дань… ну, и началось.
Дева слушала, внимательно глядя на него и позабыв обо всем вокруг. Потом подняла глаза и новым взглядом окинула веселый луг. Будто уже видела, как эти отроки встают в ратный строй, а этих дев и жен молодых чужаки уводят, чтобы продать за море Греческое…
– Что-то не о том у нас беседа завязалась, – опомнился Далята. – Люди веселятся, а я тебе про разорища толкую. Пойдем-ка, – он встал и за руку поднял с травы румяную. – А то все гулянье провороним. Венок свой не забудь.
Наконец настал час, когда Далята смог побороться за свое счастье – уже не плясками, а делом. Имея за плечами не одно купальское игрище близ Ужа, он знал: вечером, ночью или утром на заре, но дойдет и до этого.
Самый длинный день в году кончался: было еще светло, но белый месяц уже выплыл на сине-голубой свод, намекая, что ночь все-таки придет и уже стоит на пороге неба. За время игрищ парни пригляделись и к девкам, и к их венкам, так что уже знали – где чей. У Зареницы тоже был венок – не такой пышный, как тот, в каком она приехала из лесу, но тоже красивый, пестреющий множеством каких-то цветочков – синих, алых, желтых, Далята не очень в них разбирался. Это девки про каждую травку целое сказание знают, и непременно в нем кто-нибудь кого-нибудь похищает из любви…