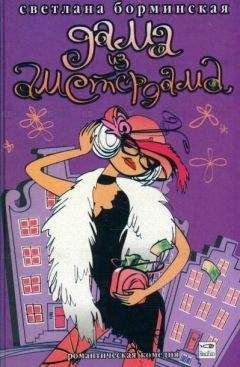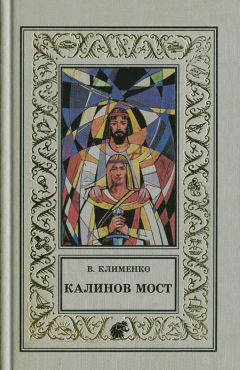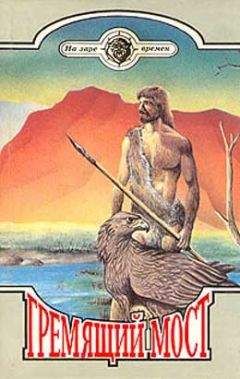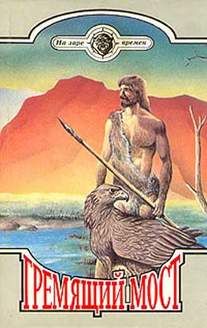Другая ветвь - Вун-Сун Еспер
— Простите меня.
— Посмотри, на кого ты похожа, — голос Бетти Софии громкий и пронзительный, лицо искажено гримасой отвращения. — Ты похожа на ту, кто ты и есть на самом деле. Шлюха.
Мать бесстрастно смотрит на нее и спокойно говорит:
— Не приближайся, но и не смей уходить, Ингеборг. У тебя что-то не в порядке с головой. Тебе нужна помощь.
В поле зрения Ингеборг попадает пара спутанных прядей на груди, и она понимает, что на голове у нее неряшливая копна. Ее взгляд скользит вниз, по мятому платью с приставшими к краю подола репейниками. Она чувствует запах собственного пота, и ей до боли хочется оказаться в своей каморке, налить поскорее воду в тазик для мытья: «Господи, хоть бы они попросили меня подняться к себе и вымыться…» Но молчание затягивается и она не смеет двинуться с места. Ее зрение будто раздваивается, и она мысленно оказывается среди людей, сидящих за столом. Никогда прежде она не чувствовала себя настолько далекой от семейства Даниэльсен, но в то же время она видит себя их глазами. Видит чокнутое чучело, стоящее перед ними. Видит, как это чучело несколько раз кивает вороньим гнездом на голове. А что должно было произойти, когда она вернется домой?
Ингеборг вспоминает бездомную нищенку, которой она дала хлеб. Нищенку, которая и отругана ее, и сказала, что она выросла хорошим человеком. Женщину с опущенным веком, редкими пеньками зубов во рту и едкой вонью телесных выделений.
«А существует ли она, эта нищенка? Видел ли ее еще кто-то кроме меня?» — мелькает мысль. Ингеборг чувствует размах крыльев боли над бровями: вот от чего она сбежала.
— Ты опозорила всю семью, — говорит Теодор. — Надо было бы вышвырнуть тебя из дома, но я поговорил с доктором Стребергом. Он согласился положить тебя в больницу. Попробует вылечить твою болезнь.
— Он не пришел, — говорит Ингеборг.
— Не переживай о нем. Он больше нас не потревожит.
Теодор поворачивается к Петеру, который стоит, прислонившись к стене, с вечной ухмылочкой на лице. Петер кивает, словно ученик, готовый отвечать на экзамене. Поднимает голову и смотрит в глаза сестре.
— Ингеборг, ты ведь всегда бродила по самым странным местам в Копенгагене. У нас не было и шанса. Ты бы могла свить любовное гнездышко даже в водосточной канаве. Чтобы не прочесывать все канавы и канализационные трубы Копенгагена, мы придумали другой план. Мы не знали, где искать тебя, но мы знали, где находится он.
Ингеборг снова вся обращается во внимание. У нее пересохло во рту, но ей удается выговорить:
— Что вы с ним сделали?
— Сказали ему, что мы думаем о таких, как он, и о том, что он посмел совершить, — говорит Петер. — Но раз он не понимает ни слова по-датски, нам пришлось перевести на тот язык, который понятен всем.
— Вы его избили?
— Да, в том числе, — отвечает Петер и смотрит на свою руку. — Но когда мы хотели решить проблему раз и навсегда, отрезав ему то, что болтается внизу, мы обнаружили, что у него там ничего нет.
Петер фыркает и достает что-то из кармана.
— Мы не смогли забить бычка, но мы забрали вот это. Можешь сохранить себе на память.
На столе лежит длинная черная косичка, и на мгновение комната расплывается перед глазами Ингеборг в бледное, идущее рябью пятно.
— Он… не… такой, — выдавливает она и делает шаг вперед, чтобы не упасть.
Она не падает в обморок, но, когда приходит в себя, все молча таращатся на нее. «Я что, кричала? — думает Ингеборг. — Я сделала что-то с собой или же я на самом деле — просто неуспокоенный дух? Ингеборг умерла, или покончила жизнь самоубийством, или же ее убили, а я — ее тень». Она осматривает себя и видит, что одна рука перевязана. Ингеборг поворачивается — и вот он. Стоит в дверях. Сань. Шатаясь, она подходит к нему, протягивает руку к шее, где пальцы смыкаются на его косичке.
— Не исчезай, — шепчет она ему на ухо.
— Она спит не только с одним из них! — кричит Петер.
— Ингеборг!
Это голос Теодора. Петер и Отто стоят справа и слева от грузного отцовского тела. Сань смотрит в глаза Теодору и кивает, сложив ладони перед носом. Мужчина перед ним не реагирует, и он протягивает вперед правую руку. Сань говорит, что для него честь познакомиться с отцом Ингеборг. Он говорит на смеси английского и неуверенного датского. Теодор стоит с каменным лицом, но переводит взгляд на Ингеборг.
— Попроси его уйти и скажи, что вы никогда больше не увидитесь, не будете писать друг другу или еще как-то общаться. Что он для тебя все равно что мертв. Сделай это немедленно. Иначе можешь никогда больше тут не показываться.
Ингеборг кажется, будто она одним взглядом охватывает всю комнату: от вазы с лиловыми астрами на подоконнике до семейных портретов на стенах, от пораженного лица Дортеи Кристины до хрупкой надтреснутой люстры над столом, от дверного проема, в котором виднеются эмалированные весы на кухонном столе, до краснорожего Теодора, тычущего в нее пальцем. Она вбирает в себя все со странной грустью.
— Он или мы. Выбирай, — говорит Теодор.
— Да, — отвечает Ингеборг и берет Саня за руку. — Выбор за мной.
39
Когда ее затылок бьется о стену, он слышит, как за досками шуршат крысы. Она хрипло повторяет, запыхавшись, что-то, чего он не понимает. Ему кажется, эти три слова звучат, как заклинание или молитва. Она улыбается? Он рассматривает ее под собой, и, возможно, из-за теней, которые скользят по ее лицу из-за их движений, лицо кажется ему маской, постоянно сменяющей выражения покоя, преданности и беспокойства.
Ингеборг лежит с закрытыми глазами в полутемной комнате с низким потолком, пахнущей одновременно сладко и кисло. Ее ладони ласкают его тело. Иногда она широко раскидывает руки и ноги, но тут же снова вцепляется в его шею и плечи, словно в страхе, что он исчезнет. Саня охватывает чувство, будто он движется к важной цели, которая не равна тому, к чему стремятся их тела. Он снова слышит те же слова. Она мимолетно улыбается.
Сань прятался в подворотне, пока Ингеборг торговалась о цене на маленькую постройку на заднем дворе. Мужчина по-черепашьи вытягивал шею над своей искривленной больной спиной. Он сложил ладонь ковшиком у груди, пересчитывая деньги. Потом заковылял через двор в своих деревянных башмаках — согнувшись, но с высоко поднятой головой и закатив глаза, словно только что стал свидетелем чего-то совершенно бессмысленного. «Или приготовился расстаться со своей головой», — думает Сань, чувствуя ее ладони на груди и лице. Он кладет руку на стену над ее головой и входит глубже в нее. Стена влажная, и штукатурка расползается под его ладонью, будто он того и гляди пробьет насквозь домишко-развалюху.
В мыслях он движется назад, в прошлое, а она также опирается ладонями о стену, словно пытается помочь ему. Штукатурка сыплется на пол, и он склоняется ниже над Ингеборг, мысленно возвращаясь в тот момент, когда впервые увидел ее, в тот момент, когда впервые оказался в Тиволи, словно в сказочном саду из сна. Возвращается дальше, в дни плавания, когда он стоял у фальшборта, корабль достиг устья Жемчужной реки и мир раскрылся перед ним подобно вееру; оттуда еще дальше, к Саню-подростку, стоявшему в порту с пустыми руками; и наконец, к мальчику, сидящему на коленях у матери, к гладкой прохладной ткани платья и теплу ее тела под его щекой. Бесконечные случайности или заранее предопределенные обстоятельства, в результате которых он теперь лежит рядом с Ингеборг, делают цепочку событий бесконечно значимой для него, но в то же время создают внутри беспокойную пустоту, где нет места чувствам.
Сань закрывает глаза, как тот мальчик, что сидел с закрытыми глазами, прижимаясь щекой к маминому платью, и кончает в Ингеборг со сдавленным криком.
Ингеборг лежит, положив голову ему на грудь. Ее пальцы теребят его косичку, и он чувствует боком грубую ткань ее повязки. Откуда-то доносится женский крик, брешет не переставая собака. Они находятся по другую сторону моста, на котором встретились в первый раз. Сань узнал суда, стены пакгаузов и два шпиля — он видел их, когда пароход с китайцами подходил к Копенгагену. Ближайший из шпилей, тот, что над церковью, увенчан позолоченным шаром. Другой, похожий на извивающегося дракона, — над длинным величественным зданием, вокруг которого было полно мужчин в черном с цилиндрами на головах. Квартал вблизи порта выглядел бедным, но весь город был полон резких контрастов богатства и нищеты.