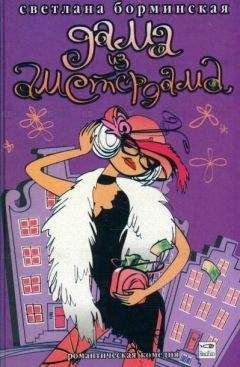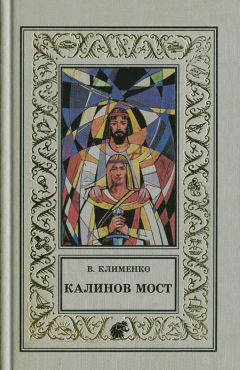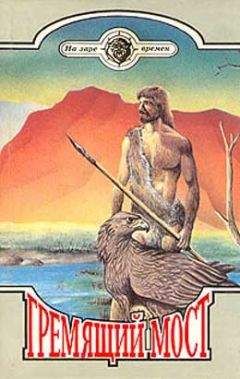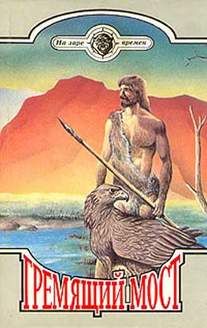Другая ветвь - Вун-Сун Еспер
Генриетта вырывает руки, но остается стоять на месте. Ее взгляд сверлит какую-то точку на полу перед ней.
— Эдвард говорит, что нельзя смешивать расы.
— Мы ничего не смешиваем, — говорит Ингеборг. — Мы просто поедем на пикник.
— Но Эдвард говорит, что это неправильно. И может быть опасно, потому что…
Ингеборг знает, что ее план был глупым и непродуманным с самого начала. Внезапно ее охватывает сильная ненависть к себе: ведь она всего лишь наивная, безответственная и запутавшаяся девчонка. Во рту у нее, словно слюна, собираются бессонница, тоска, беспокойство и гнев, и она направляет все это против девушки, стоящей напротив.
— Послушай хорошенько, Генриетта. Хочу, чтобы ты знала: все это я говорю тебе только потому, что ты такая милая и умная. Ты права. Это может быть опасно. Ведь Эдвард — представитель тупейшей мужской расы. Он тупой как пробка, и если прожить всю жизнь рядом с таким, как Эдвард, то над тобой неминуемо нависает опасность самой стать идиоткой. Ну а дети от него наверняка родятся полудурками.
Мгновение обе девушки стоят молча, словно пытаясь понять, что же только что было сказано. Самое смешное в том, что Генриетта не сердится. Ее губы кривятся в кислой усмешке, но взгляд спокоен и задумчив.
— Ты же знаешь, с тобой теперь все кончено, — говорит она. — Я бы могла помочь тебе. Тогда, когда мы еще были подругами.
— Мы никогда не были подругами, — говорит Ингеборг и отворачивается.
Она начинает чистить один из больших противней. Держит его под наклоном левой рукой, а правой нажимает с такой силой, что черная зола и присохшие карамельные потеки летят с поверхности, как стружка под рубанком. Это достижимая цель — очистить противень. Она берет сломанный хлебный нож, которым отскабливают пригоревшее тесто, и шурует им, пока не начинает различать собственное нечеткое отражение в стальной поверхности. Неужели она и правда ревет? Ингеборг чуть поворачивает противень, чтобы лучше себя видеть, но кажется, что вместо этого ее отражение уменьшается, удаляется или тает. Она поднимает взгляд к потолку и одновременно вонзает нож себе в руку. Делает это, потому что у нее нет другого выбора. И сразу чувствует вкус железа на нижних зубах. Кто-то что-то говорит, но это не она. Ингеборг смотрит на Генриетту, и на мгновение ее напарница — такой же расплывчатый, идущий рябью силуэт, каким она сама выглядела в поверхности противня. Она не смотрит на свою руку. Ей достаточно видеть ужас на лице Генриетты и слышать частые шлепки капель на пол у своих ног. Она думает: «Я чиста. Я чиста. Я чиста. Я чиста».
Ингеборг не знает, говорил ли мастер-пекарь Хольм с ее отцом, но Ханс, подмастерье, отводит ее к врачу. Комната ожидания в приемной для бедных на втором этаже здания на площади Культорвет полна окровавленных тряпиц и полотенец, обернутых вокруг разных частей тела. Тут строительные рабочие с поврежденными пальцами на руках и ногах. Мужчина в кожаном фартуке и с повязкой на голове, напоминающей тюрбан, по которой расползается темно-красное пятно. Пациенты бледны и неподвижны, словно восковые фигуры. Только маленький ребенок все время плачет и вертится на коленях круглощекой девушки, которая могла бы быть его старшей сестрой, но скорее всего — его мать. Рядом с кричащим ребенком стоит, прислонившись к стене, мужчина и спит. В комнате без окон воздух спертый и пропахший потом и болезнью. Ханс уже засунул в рот трубку.
— Я подожду на улице, — говорит он.
Ингеборг находит свободное место у стены и делает неглубокий вдох.
Когда приходит ее очередь, врач бросает на нее один-единственный взгляд — в тот момент, когда она входит в кабинет; и даже тогда кажется, будто он ищет глазами что-то за ее плечом.
— Я порезалась хлебным ножом, — говорит Ингеборг.
Врач никак не реагирует. Он уже склонился над длинным порезом, идущим от середины предплечья почти до самого запястья.
Ингеборг представляет его рабочий день одной долгой дрожащей от жара дорогой, выложенной кровью, гноем и сломанными костями. Врач тяжело вздыхает, словно прочитав ее мысли. Ингеборг закрывает глаза, пока он зашивает рану.
— Можно мне выйти через заднюю дверь? — спрашивает она.
Когда Ингеборг спешит по улице Педера Видфельта, ее охватывает возбуждение, состоящее наполовину из страха, наполовину из чувства свободы, словно она узница, вышедшая из ворот тюрьмы. Она свободна выбирать, но на самом деле выбор уже сделан и она держит перевязанную руку перед собой, будто щит. В предплечье пульсирует боль, рука зудит то сильнее, то слабее. Когда Ингеборг пересекает Кристаллгаде, женщина с корзиной, полной выстиранного белья, сочувственно улыбается ей, будто понимая, как тяжело будет добиться того, чего и так тяжело добиться в жизни женщине. Ингеборг удивленно отвечает улыбкой на улыбку. Стала бы эта женщина улыбаться, если бы Ингеборг шла не с повязкой на руке, а с Санем под руку?
Она идет по кварталам с дурной славой, чтобы не встретиться ни с кем из знакомых. На Фарвегаде до нее доносятся крики и шум перевернутой мебели из гостиницы «Хольгер Датчанин». На Госегаде женщины сидят на подоконниках или стоят в дверных проемах, а полицейский смотрит на нее так, будто перевязанная рука — результат стычки с клиентом. Ингеборг обходит кучу гнилой соломы, воняющей на жаре мочой и конскими яблоками, и ее рука начинает чесаться. Она сворачивает направо у площади Ванкунстен. Воздух становится чище, когда она доходит до бульвара Вестре и оставляет позади пыль и шум стройплощадки с новой ратушей. Она слышит стук копыт приближающейся конки. В нос бьет запах лошадей, в уши — их фырканье, а потом конка проезжает мимо и сворачивает на Вестерброгаде. Одному мужчине из комнаты ожидания в результате несчастного случая длинный гвоздь пробил ладонь насквозь между большим и указательным пальцем. Гвоздь не стали вытаскивать, и мужчина так и сидел, прислонившись спиной к стене и держа дрожащую замотанную в шарф руку перед собой, словно фокусник, готовый сдернуть платок. Несчастный случай произошел во время укладки рельсов для новой трамвайной линии в Копенгагене. В городе появились и автомобили, в которые можно садиться и ехать куда угодно, управляя ими с помощью руля. Ингеборг думает о них так, словно это что-то, способное дать ей надежду. Ко всему нужно просто привыкнуть. Если это правда, то сколько времени понадобится, чтобы ненормальное стало нормальным?
Ингеборг прижимает кошелек к повязке, расплачиваясь за вход здоровой рукой. Контролер с соусницей на голове дружелюбно кивает ей, словно прогулка по Тиволи — как раз то что нужно, когда ты на больничном. Обычно Ингеборг покраснела бы от стыда, но только не сегодня. Она смотрит на разноцветные лампы и палатки, где продают яблоки в карамели и сок. Она вспоминает вечер несколько лет назад, когда была в Тиволи с семьей. В поисках Бетти Софии и Петера она случайно оказалась за театром пантомимы, в темном участке сада на пути к ресторану «Диван 2»; несколько женщин легкого поведения окликали там проходящих мимо мужчин. Теперь Ингеборг идет по дорожке с таким чувством, будто скрывает нечто ценное под своей повязкой. Однажды она прочитала книжку о пиратах, в которой мальчик нашел карту сокровищ и спрятал ее под рубашкой. Карта стучала в его грудь, будто второе сердце, и сердце Ингеборг колотится за двоих, когда она входит в Китайский городок и приближается к тому месту, где обычно стоит его столик. Он сидит там, прямой и похожий на самого себя. Такой настоящий. Как маленький остров с сокровищами, который никто, кроме мальчика, не мог найти.
37
Сань добирается только до решетки, окружающей Тиволи. Когда он хватается за чугунные прутья, его удивляет, насколько они холодны. Мгновение ему кажется, будто он приложил ладони к горящей печке и обжегся. Он стоит под безлунным небом, скрытый древесной кроной, когда начинается мелкий дождь.
Что касается погоды, Хуан Цзюй оказался прав. Дней десять назад она переменилась, и с каждым днем в Китайском городке становится холоднее. Несколько дней подряд Сань просыпается до рассвета из-за холода, какой бывает в Кантоне только зимой. Он поднимается на ноги, прислоняется к косяку, завернувшись в одеяла, и смотрит, как его дыхание облачками вырывается изо рта, пока небо бесконечно медленно светлеет, становится размытым туманно-серым, а в безветренные дни таким и остается до самой темноты. В другие дни небо светло-голубое и ветер задувает изо всех щелей в домах и проникает под одежду. Китайцы зажигают костер перед бараками, хоть это и запрещено из-за угрозы пожара. Охранники гасят пламя, и господин Мадсен Йоханнес приносит дополнительные одеяла и сапоги. Сань берет одеяло, но отказывается от сапог. Эту границу он еще не готов пересечь. Он по-прежнему ходит в сандалиях, поджав замерзшие пальцы.