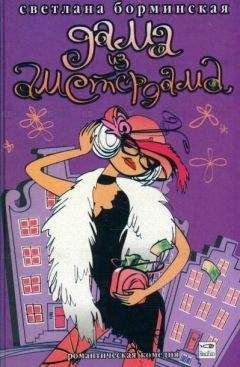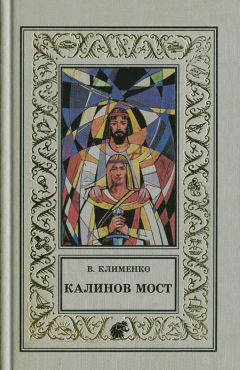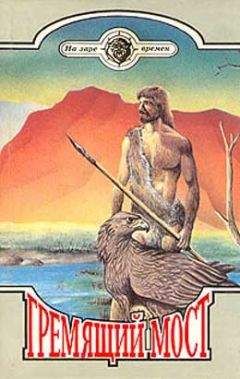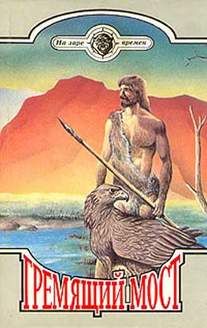Другая ветвь - Вун-Сун Еспер
— Я не знала, что нужно взять с собой капитана первого ранга, — говорит Ингеборг.
Лодочник пожимает плечами. На его животе висит потрепанная сумка из коричневой кожи. Он меняет деньги на билеты левой рукой, явно привычной работать не хуже правой. К коротким мосткам подплывает лодка с парочкой, они прижимаются друг к другу на банке. Инвалид ловит конец троса и привязывает его к столбу несколькими уверенными движениями широкой кисти. Ингеборг хочется сказать, что его левая рука великолепно справляется, хотя у нее нет пары, но прикусывает язык.
Лодочник указывает ей свободную лодку.
— Один час, — говорит он.
— А если я захочу задержаться подольше?
— Мы закрываемся, — объясняет он. — На воде не должно быть лодок после наступления темноты.
— Даже если найдется что-то такое, что светит в темноте? — спрашивает Ингеборг.
Мужчина скребет шею.
— Ну, если… ненадолго.
Купюра трясется в руке Ингеборг, словно осенний лист на каштане за окном ее комнаты. Деньги движутся иначе — левая рука инвалида быстро и целеустремленно отправляет их в карман штанов.
— Если меня не будет, привяжешь лодку к крайнему столбу.
Ингеборг кивает. Ступив на дно суденышка, она придерживается за мостки, чтобы восстановить равновесие. Потом садится. В то же мгновение мужчина делает шаг вперед и хватает трос. Стоит и удерживает лодку на месте.
— Ты ведь не прыгнешь в воду, а?
Ингеборг энергично трясет головой. Он повторяет ее движение, словно пытается убедиться, что ее отрицание искренне.
— У меня жена и шесть детей, которых надо кормить, — говорит он.
Ингеборг не знает, что на это сказать, и отворачивается. Вода черна, как нефть, но солнечный свет бросает разрозненные золотистые ленты на ее поверхность. Наконец лодочник вздыхает и отпускает трос. Не говоря ни слова, он разворачивается и идет обратно к своей будке у Моста королевы Луизы. Она сидит и смотрит, как его фигура уменьшается, пока лодка отплывает от берега.
«Неужели я выгляжу настолько отчаявшейся?» — думает Ингеборг, и тут же возвращается головная боль, которую до этого удавалось заглушить детской песенкой и решительностью.
Давящая боль над бровями тянет голову вниз, и она покоряется, опускает голову. Задерживает взгляд на своих руках, зажатых в складках платья между коленями. «Единственная работающая рука лодочника менее одинока, чем обе мои ладони, прижатые друг к другу. — Губы складываются в слабую улыбку. — Это ведь тоже по-своему наоборот, разве нет?»
Ингеборг сидит, скрючившись на банке, пока вдруг не замечает краем глаза что-то белое. Большой лебедь плывет параллельно лодке, не удостаивая ее взглядом. Морковно-красный клюв и черная маска вокруг глаз. Птица быстро скользит по воде и выглядит невероятно элегантной, потому что гребущие лапы скрыты под неподвижным телом. Лебедь движется с таким достоинством, словно все внутренние озера Копенгагена — Сортедам, Пеблинге и Сант-Йоргенс — создали с помощью дамб исключительно для него; словно вся вода в королевстве существует ради него. Немного времени прошло, и вот уже лебедь — неясное белое пятно, уменьшающееся на фоне поблескивающей поверхности воды.
Она оглядывается по сторонам. На озере не менее сотни птиц. Она узнает серых уток, коричневых крякв и лебедя-шипуна. Есть еще какие-то птицы поменьше, с острыми клювами и перьями оттенка металла, в стае их примерно двадцать. Вокруг плавают лодки, около дюжины, но, к счастью, большинство их них находятся в солнечной части озера, у Остер Сегаде и мостков. А лодку Ингеборг отнесло в тень в северо-западной оконечности озера, хотя сама она и не бралась за весла.
Ингеборг пытается определить свое местоположение, ориентируясь по дорожке, идущей вдоль озера, и скамейкам между дубами на зеленом склоне. На одной из них человек читает газету, на другой сидят рядом двое мужчин в черном, их шляпы торчат на головах, как печные трубы на крыше. Ей нужно держаться неподалеку от берега, но и не подходить слишком близко к нему. По дорожке проходит полицейский в высоком шлеме, заложив руки за спину. Там же, держась за руки, прогуливаются две дамы с осиными талиями и в шляпках с цветами. Ингеборг слышит их щебечущие голоса и видит пыль, поднимающуюся с дорожки под ногами. Женщины замолкают, когда замечают ее. Ингеборг пониже опускает подбородок, чтобы тень от полей шляпы скрыла ее лицо, но она чувствует, что ее разглядывают; так и есть — шепчутся, сблизив головы.
Нужно отплыть подальше от берега. Она никогда раньше не держала весла в руках, но теперь берег одно и опускает в воду. «Весло, вероятно, должно держаться в чем-то», — приходит мысль. Она налегает на весло, сопротивление воды удивляет, а лодка, вместо того чтобы двигаться вперед, медленно поворачивается вокруг собственной оси. С лопасти текут ручьи, когда она поднимает весло и пробует грести с другой стороны, но с тем же результатом — лодка вращается на месте. Становится жарко щекам, но спине потек пот. На расстоянии она наблюдает за энергично гребущим молодым человеком: его невесте — должно быть, это невеста — сидит на носу с зонтиком и смотрит по направлению движения лодки. Ага, понятно — нужно использовать оба весла одновременно.
Ингеборг удается вставить сначала одно, а потом и второе весло в уключины. Она пытается повторять движения мужчины; как он наклоняется вперед, обхватив весла, а потом тянет весла назад к груди, сгибая руки в локтях. Теперь ее лодка движется зигзагами, потому что гребет она не синхронно и не с одинаковой силой. Каждый раз, когда Ингеборг пробует исправить курс, выходит только хуже. И тут она догадывается, что нужно грести противоположным веслом. Когда хочешь, чтобы лодка шла влево, нужно тянуть на себя правое весло. Таким образом, и здесь все наоборот.
Она победно улыбается, довольная, что может более-менее управлять лодкой. Теперь она так далеко на озере, что никто с берега не сможет различить черты ее лица и не увидит ее улыбку. Но вскоре накатывает страх, ей трудно сидеть спокойно. Лодка покачивается, посылая прозрачные дуги волн по черно-зеленой поверхности озера, когда она перегибается через борт и опускает в воду руку. Выглядит это так, словно она хочет смыть страх. Смотрит на увеличенные желто-зеленые пальцы под водой и начинает понимать, почему на нее накатило отчаяние. «Это потому, что я все еще пытаюсь сбежать от себя, — думает она. — Потому что ищу выход. То есть тот же путь, которым идут все остальные».
И вот она снова здесь: мысль о том, что все еще можно повернуть назад. В самом деле, она может погрести обратно к причалу. Может вложить трос в единственную здоровую руку лодочника и сказать ему, что она накаталась и теперь ей хочется немного подышать воздухом. Она может пройти через город, найти Рольфа и извиниться. И даже на этот раз позволит ему поцеловать себя. Она может разрешить ему надеть кольцо ей на палец. Может лечь на спину и дать ему сделать то, чего он хочет. Может выйти за нет замуж и родить пять светловолосых бледных детей. Она может пойти этим путем. И заставит свой рот улыбаться всю дорогу.
Ингеборг резко вытаскивает руку из воды, словно обожглась. На борт капает.
«Снова наоборот, Никтосен, — думает она. — Вот почему сегодня я выгляжу напуганной, когда должна радоваться. Но что тогда противоположность самоубийства? Наверное, дать жизнь… самой себе. Наверняка».
Она выпрямляется и осматривается. Даже в тени выстроившихся рядами домов Нерребро ей приходится щуриться от солнца, низко стоящего над дамбой Свинерюгген. В его лучах озеро дрожит, словно поверхность рдеющих углей. Остальные лодки направляются к причалу. Вот их остается всего четыре, вот три. Трава на склоне больше не темно-зеленая, теперь это неровный черный ковер. Дорожка сереет, словно выбеленное солнцем дерево. С каждой минутой лица на дамбе становятся все более расплывчатыми. Теперь она различает только силуэты людей, сидящих на скамейках или направляющихся к домам по дорожке. Черты ее лица наверняка столь же неразличимы для них — она просто силуэт в лодке. И все же у нее колет в груди каждый раз, когда ей кажется, будто она узнает кого-то из гуляющих в сумерках. Принимает за отца, Теодора, нескольких мужчин с брюшком, в кепке и пиджаке. Минимум пять раз принимает за Петера разных молодых людей. Но она нигде не видит его. Ингеборг поднимается и вытягивает шею. Ей видно далеко, вплоть до павильона Общества конькобежцев у Гильденлевесгаде, две белые башни которого горят на солнце, будто их охватил пожар. Она пугается, что скоро стемнеет настолько, что будет трудно его узнать.