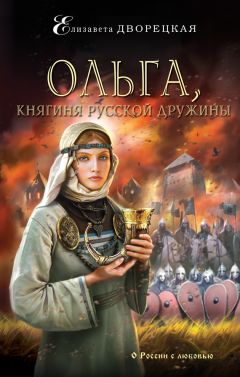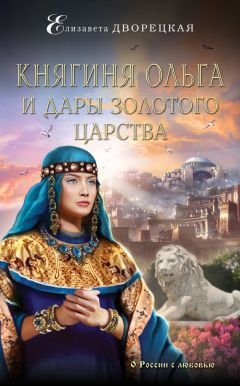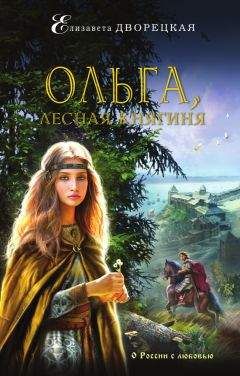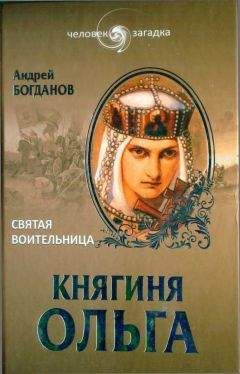"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
Сулица – короткое метательное копье (в отличие от собственно копья, предназначенного для ближнего боя).
Сыр-Матер-Дуб – мировое дерево.
Таль (и единичное, и собирательное) – заложники. «Отдать в тальбу» – в заложники.
Тиун – управляющий княжеским хозяйством.
Требище – место принесения жертв, святилище.
Убрус – полотенчатый головной убор, покрывало замужней женщины.
Ужики – все родные и близкие, от слова «узы», то есть связь.
Укладка – сундук.
Умбон – железная выпуклая бляха в середине щита. Нужна была для удобства держать щит и для защиты кисти.
Царьград – древнерусское название Константинополя, столицы Византии.
Хеландия – парусное гребное судно византийского военного флота.
Хель – богиня смерти скандинавского пантеона, хозяйка мира мертвых, с лицом наполовину красным, наполовину иссиня-черным. Также и страна мертвых называется Хель.
Хенгерок – вид скандинавской женской одежды, похожий на сарафан на лямках, которые пристегивались крупными узорными застежками на груди. Во второй половине Х века был распространен среди высшего слоя Руси (судя по находкам нагрудных застежек, которые не могли иметь применения в традиционном славянском костюме).
Хёвдинг (сканд.) – человек высокого положения, вождь, глава чего-либо.
Хирдман (hirðmenn) – именно это слово переводчики саг и переводят как «дружинники» – оно обозначало основную часть королевской дружины. Снорри Стурлусон называет их «домашней стражей» конунга. Здесь употребляется как название военных слуг вождя со скандинавскими корнями, не забывшего родной язык.
Хольмгард – в совр. литературе – Рюриково городище, поселение на Волхове близ Ильменя, со следами проживания богатой скандинавской дружины.
Хотимирль – городище Хотомель (название является производным от имени Хотомир/Хотимир). Его основание датируется VII–VIII веками, и существовало оно по X век. Но назвать его городом в обычном смысле мы не можем, по той же причине, что и другие «города» этого периода: в самом городище отсутствуют следы постоянного проживания людей, хотя найдено много обломков керамики и металлических предметов. Лишь вдоль внутренней стороны вала предполагаются остатки длинных построек, а в середине площадки – несколько ям. Оно включено в список святилищ, но ни жилищ, ни ремесла, ни торговли там не было. Находки интересные: семилучевое височное кольцо, украшенное ложной зернью (IX–X вв.), обломок серебряного браслета из круглой проволоки со слегка утолщенным концом (VIII–IX вв.), два наконечника копья (VIII–X вв.), трехлопастные стрелы, которые обычно связывают с аварскими древностями, они появляются не раньше середины VII века и к Х веку выходят из употребления. Возможно, городище видело и авар, набег которых дулебы пережили в VII веке. У подножия городища находилось селище, но небольшое: там открыто 16 построек, причем они не могли существовать все одновременно, значит, в любой период времени их было меньше.
Хоть – наложница, возлюбленная, младшая жена.
Черевьи – кожаные башмаки.
Чупрун – верхняя женская одежда вроде прямого пальто.
Эйнхерии – воины, павшие в битвах и обитающие во дворце Одина.
Ятровь – жена деверя (для замужней женщины), иногда – жена брата.
Елизавета Дворецкая
Две жены для Святослава
© Дворецкая Е., 2016
© Нартов В., иллюстрация на переплете, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Предисловие автора
«Легенда о княгине Ольге», как она сформировалась в литературе в течение веков, включает два основных момента, два слагаемых исторического сюжета, которые сделали эту женщину знаменитой: месть за Игоря и крещение. Первая часть легенды была мной освещена в книге «Ольга, княгиня русской дружины». Пришла пора приступать ко второй.
Действие романа происходит перед поездкой княгини Ольги в Константинополь, которая по основной версии исследователей относится к лету – осени 957 года. Но к этому времени у героев цикла за плечами уже долгий путь.
Еще пока Святослав, сын Эльги и Ингвара, был отроком, для него нашлись две невесты, одинаково знатного рода и одинаково нужные для благополучия державы. Прияслава, дочь покойного смолянского князя Сверкера, восемь лет ждет, когда же почти незнакомый киевский жених пришлет за ней. В это время Эльга, княгиня киевская, предпочитает женить сына на Горяне, дочери своего племянника Олега Моровлянина, князя древлянского, желая таким образом соединить обе линии потомков Олега Вещего и предотвратить будущие раздоры. Самому же Святославу пока все равно: он не видел ни одной невесты и мысли его совсем о другом.
Но если дочь родителей-христиан Горяна Олеговна полагается на волю божью, то Прияна, внучка колдуньи Рагноры, готова побороться за свое счастье. После неудачной попытки бежать в Киев она, устав ждать, дает согласие другому жениху. И когда Святослав наконец приезжает в Смолянскую землю, оказывается, что его невеста исчезла, а кривичи строят замыслы создания собственной державы – соперницы Русской земли.
Очень много лет я даже не думала о том, чтобы писать про князя Святослава: я его не видела и не чувствовала как человека и как образ, а еще один бронзовый монстр с чубом на голове, серьгой в ухе, хмурым взглядом и тремя словами на суровых устах «Иду на вы!» никому не был нужен, в первую очередь мне самой. Но наконец я его увидела. И по-моему, образ получился. Если, конечно, помнить, что здесь ему всего девятнадцать лет и он не родился с чубом, суровым взором и все той же фразой. И прежде чем стать памятником в бронзе, лет тридцать был живым человеком.
Поскольку Святослав уже вырос, активная роль в действии переходит к нему. Княгиня Эльга за все время ни разу не покидает Киева. Но именно она управляет всем происходящим, указывает цели и сыну, и Руси в целом. Более того: именно она предпринимает шаги, призванные из военной корпорации, живущей то торговлей, то данью с покоренных народов, то грабежом, превратить Русь в державу, часть «европейского мира». А именно здесь мы переходим ко второму слагаемому ее легенды: крещению.
Мотивы, побудившие Ольгу принять христианство, составляют одну из ее загадок, ибо источниками они никак не освещены. «Похвала блаженныя и великия княгини Олги» (XVI век) говорит об этом так:
«Блаженная же великая княгиня Олга по смерти мужа своего Игоря, великаго князя рускаго, освященна бывше божию благодатью и в сердцы приимши божию благодать».
И все. Никакой конкретной причины нет. Не являлась ей во сне Богородица, не излечивалась она по чьей-то молитве от болезни, не впечатлили ее подвиги какого-либо святого или мученика, и никакой святитель не убеждал ее в ложности идольской веры. Никакого чуда из тех, что обращают язычников, с нею не произошло. И даже традиция никакой легендой на этот счет ее не наградила. И тем не менее подобные решения, принципиально меняющие судьбу и личности, и целой державы, не принимаются просто так.
Разгул для фантазии тут самый широкий. Мотивы могли быть самые разные: от личной душевной тяги до холодного политического расчета. А скорее всего того и другого понемножку. Я постаралась осветить ее мотивы, как они мне представляются. Эльга в данном романе, почти не выходя из дома, тем не менее ведет напряженную работу мысли и совершает духовное путешествие, которое уже скоро приведет ее к необходимости на самом деле отправиться в путь за Греческое море – легендарный путь, который выведет на новую дорогу всю огромную землю Русскую. И это будет не только первый случай в русской истории, когда глава государства выезжает за границу с посольством, а не с войском – людей посмотреть и себя показать. В следующий раз нечто подобное было предпринято лишь много веков спустя, когда Петр Первый, тоже осознавший необходимость больших перемен, снарядил в Европу свое Великое посольство.