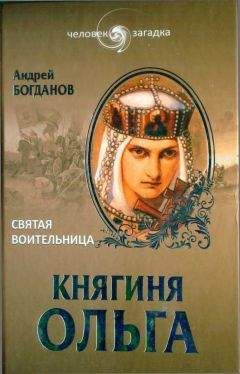"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
– Может, они нашли Божищи… – начал один отрок из спутников Красилы, Радива.
– Как нашли?
– Ну, на дороге в полон кого взяли? Раненых?
– И что?
– Выпытали дорогу… А там сказали: отдайте, мол, лошадей и поклажу, мы уйдем. Пришлось бы Божищи приступом брать – у них не сорок человек осталось бы.
Берест хотел верить, что так и было. Долго сидеть в осаде в Божищах не вышло бы – нет воды. А выходить в поле против русов… Древлян больше, но у киян шлемы, щиты… Если Миляй и решился на это, то дело кончилось худо…
– Пора нам, сынки, восвояси собираться, – решил мрачный Красила. – Не будет здесь дела. Пел я Етону про дулебский род и единый наш корень, что твой Велесов внук, а все же он – сам рода русского, а волк волку бок не вырвет. Давайте-ка до дому! Я же ведь из-за старого пня Свенельдича татем выставил, он еще за клевету с меня спросить может. Выйду за чужую вину ответчик! Етон теперь, коли с ним помирился, не сознается, что сам и выдумал, будто скора краденая у него. На меня переложит. Прям Недоля злая нам прядет! Готовое было оружие в руках, чтобы киян с бужанами навек рассорить! Поди пойми, что Свенельдич ему наплел… Как корнями обвел!
Берест молчал. Перед глазами темнело от досады на судьбу и от ненависти к русам. Свенельдичи убили полсотни лучших мужей деревских. Малин разорили вразор, на их руках сохла кровь его, Береста, отца и матери, на них – горе угнанных сестры, младшего брата и прочих родичей. И, может быть, кровь Миляя с его дружиной. При мысли об огромной рати мертвецов хотелось спрятать лицо в ладонях, чтобы не видеть, но во внутренней тьме этот окровавленный строй выступал только яснее.
И оба они, сыновья старого волка Свенельда, были здесь, в Плеснеске. Почти рядом – на княжьем дворе. Пировали у Етона, обделывали свои дела, ходили по гостям, гордясь собою… И чем он, Берест, Коняев сын, им отплатил? Где «род свой береги всего превыше»? Где «мстит родич за родича»? Только и сумел, что секиру взял с чужого коня, да так ни разу и не пустил ее в дело, потом одного оружника застрелил в лесу. Может, еще одного на переправе – видел, что тот упал, но убитый или только раненый, разглядывать было некогда. Свенельдичи опережали его на многие десятки отнятых жизней. И он, сколь ни было ему это ненавистно, обязан был стремиться сравнять счет. Иначе как в глаза чурам глядеть на том свете? Отцу и матери? Киселяя, скажут, родили и вырастили мы, не мужа честного… Только подверженец не мстит за своих. Не захотел или не сумел – не важно. Един обычай для всех древлян – се покон первый. И кто поконов родовых не исполняет, не древлян тот.
– Свенельдич-меньшой тут себе и девку завел, – со смесью ненависти и зависти пробурчал Радива.
– Что? – Берест повернулся к нему.
– Я его соследил раз, мы с Катуном ходили, – отрок кивнул на приятеля. – От увоза близехонько, двор купеческий, купец Радай живет. Выходила женка молодая, вдова тоже, прощалась с ним. Целовала даже вроде.
Он презрительно скривил губы.
– Это их, Свенельдовская женка, – добавил Катун, житель окрестностей Искоростеня. – Из Свенельдова предградья. Встрешник знает, как здесь оказалась.
– Да она, видать, бежала, – сказал Красила. – Иные дворы там пусты стояли, уж когда пришли… после избоища того. И у купца на дворе двое Свенельдовых людей стоят – Рыскун и тот, красноглазый бес… Требимир.
– И меньшой ходит к бабе? – Берест посмотрел на Радиву и Катуна.
– Раз ходил, а было ль еще – не ведаю.
Берест напряженно думал. Пока они еще не уехали… и русы не уехали… Мистина извернулся, сумел сохранить дружбу и доверие Етона, а они, древляне, оказались виноваты… И здесь, совсем рядом, ходит тот, кто виновен в гибели Малина… Тот, кому он, Берест, обязан мстить за родичей. Нужно ловить случай. Будет ли иной – только рожаницы ведают.
Он пристально оглядел отроков.
– Вот что, братие… Не кончено наше дело. Горностаями не вышло их взять… – он понизил голос, чтобы не слышал сидящий поодаль Красила, – так у нас секиры есть.
Двулезвийный клинок в два локтя длиной. Шириной как три Лютовых пальца, сложенных вместе. На клинке «пятно» – бавары сказали, надпись означает «Ульфберт», имя семьи мастеров, из города Золингена на верхнем Рейне, где мечи куют с незапамятных времен. Имя было одно из лучших: прочесть его никто в дружине Мистины не мог, но, услышав, что это оно, все уважительно закивали. Высокое, тонкое перекрестье с зауженными концами. Высокое округлое навершие, как и перекрестье, покрытое сплошным узором из чередующихся кусочков серебра и меди. Рукоять, в основе деревянная, плотно обмотана черной кожей. Ножны с серебряной оковкой, красной кожи, прочные, призванные служить своеобразным щитом для бедра, когда клинок у хозяина в руках. Вещь дорогая, богатая, сверкает и дышит роскошью, будто жар-птица в золотых перьях.
Даже Мистина, увидев, что выбрал Лют, покрутил головой, удивленный силой его слепой удачи. Взял, повертел, положил на два пальца, уравновесил, одобрительно кивнул: точка равновесия – на ширину ладони от перекрестья, лучше нет для удобства быстрых ударов.
– Как назовешь?
– Не знаю… посмотрю, как себя покажет, тогда пойму, – выдохнул Лют.
Ему было жарко, в груди разливалось тепло. Он уже любил свой новый меч: тот оказался прекрасен и могуч, как… как дочь великана из сказания, богиня Скади или солнечная богиня Суль – Солонь по-славянски. Весь день он не выпускал рукояти: крутил, вертел, рубил воткнутые в землю прутья, примеряясь к непривычному еще клинку. Здесь нужна не сила удара, как с секирой, а ловкость: при такой остроте лезвий даже коснуться противника, особенно в незащищенное место, достаточно для того, чтобы ранить. Может быть, смертельно. Жалит, как змей…
Мог ли он мечтать, когда еще деревянным мечом рубил крапиву и полынь, в которой видел греческую пехоту… То есть мечтать-то он мечтал, но чем лучше понимал стоимость и значение таких вещей, тем сильнее сомневался, что ему, сыну челядинки, когда-нибудь приведется взять по-настоящему хороший меч в руки. Подумать только – полгода назад он был несвободным! И сколько бы ни любил его Свенельд, он не мог бы вручить меч сыну Милянки, пока не дал бы ему волю перед дружиной. Этого он сделать не успел. Люта освободила судьба. А брат вручил ему меч. В груди кипела горячая любовь, не различавшая их и не делившаяся между ними двоими – Мистиной и мечом. Эти два образа – старшего брата и нового меча – сливались в сознании Люта, и он был готов умереть, но не опозорить этих двоих! Показать и доказать, что достоин их огненной, железной, золотой мощи!
Пока Лют забавлялся с новой «игрушкой», Мистина послал к Радаю, приглашая Рыскуна и Требимира навестить его. С отцовскими посланцами он еще не виделся, но свидание это было необходимо. С Требимиром он был знаком очень давно: Свенельд подобрал того где-то на Днестре, еще пока сам Мистина был не старше Люта. Рыскун появился у воеводы лет шесть назад, но, человек ловкий до счета и понимания разного товара, добился доверия господина по торговым делам.
Говорил в основном Рыскун – человек моложе тридцати лет, невысокого роста, с рыжей бородой, острыми чертами подвижного лица, желтыми глазами; в ловкой его повадке смешалось подобострастие перед высокородным господином и лукавство: дескать, вас почитаем, но и себя не забываем. Требимир больше молчал: его держали в дружине не для разговоров. Однако именно его лицо – огрубевшее, в шрамах, с налитым кровью жутким красным глазом, следствием давней раны, – придавало куда больше убедительности речам Рыскуна.
– Благо тебе буди, Свенельдич, что не погнушался повидаться с нами! А то мы уж не ведали, что думать, как дальше быть. Уехали мы от господина сильного с дружиной верной и могучей, а еще до дома не доехали – нет ничего, ни господина, ни дружины. Боги помогли, что дело наше сладилось – а то вышли бы мы без вины обманщики перед Генрихом, тогда вовсе хоть в воду от позора… Обмани мы его поневоле – хоть в Греческое царство беги, да и там найдут, пожалуй…